Белорусское государство Великое княжество Литовское
_cut.png/478px-Pahonia_-_Пагоня%2C_Grand_Duchy_of_Lithuania_COA_(1575)_cut.png) 20 лет назад вышел в свет основополагающий научный труд выдающегося белорусского историка Николая Ивановича Ермоловича “О местонахождении Древней Литвы”. Он был опубликован в Риге.
20 лет назад вышел в свет основополагающий научный труд выдающегося белорусского историка Николая Ивановича Ермоловича “О местонахождении Древней Литвы”. Он был опубликован в Риге.
Этот энтузиаст-исследователь еще в 1960-е годы своими “несанкционированными” исследованиями бросил вызов политизированной до мозга костей белорусской советской исторической науке.
Учитель из города Молодечно, выйдя на вынужденную пенсию инвалида по зрению, Николай Ермолович более двадцати лет по собственной инициативе работал над своей первой книгой. В ней он в корне опроверг расхожий исторический миф о завоевании белорусских земель литовцами в ХIII столетии.
Большинство белорусских историков в те годы как бы по инерции поддерживали вышеупомянутый миф. По идеологическим мотивам он был сформирован еще в конце 1930-х годов для того, чтобы обосновать отношение советского государства к Литве — соседнему независимому буржуазному государству, которое было словно бельмо на глазу.
Исходя из хроник, летописей и других литературных источников, Ермолович предложил свою, независимую историческую концепцию становления Великого Княжества Литовского (ВКЛ), которая подтвердилась многочисленными археологическими и этнографическими материалами. Согласно этой концепции, образование княжества было прежде всего результатом экономического, политического и культурно-этнического сближения и объединения белорусских земель. Ядром этого государства стали белорусские земли верхнего и среднего Принеманья, так называемая Черная Русь, или летописная Литва, и земли по верхнему течению реки Вилии. Первой столицей нового государства был город Новагародак (Новогрудок).
Весь этот исторический процесс происходил в интересах белорусских феодалов, что характеризует Великое Княжество Литовское прежде всего как белорусское. Именно потому в нем господствующее положение заняла белорусская культура с государственным белорусским языком. Княжество возникло в условиях непрерывной борьбы с крестоносцами и нависшей угрозы монголо-татарского нашествия. Включение белорусских земель в состав ВКЛ осуществлялось в согласии великих князей литовских и феодалов белорусских, а позже и украинских, при сохранении льгот, привилегий и определенного самоуправления.
Заселение славянскими племенами Восточной Европы, этногенез белорусов, политическая история древних земель Беларуси, проблемы возникновения ВКЛ — вот круг вопросов, досконально освещенных историком-энтузиастом Николаем Ермоловичем в трех книгах и двух печатных научных работах. Он, не имевший и не желавший ученых степеней, стал в 1992 году лауреатом Государственной премии Республики Беларусь. Имя выдающегося белорусского ученого-историка занесено в 6-й том новой Беларускай Энцыклапедыi.
На историческом факультете БГУ бывшие коллеги Ермоловича и его земляки из Молодечно мне рассказали, как исследователь погиб три года назад: его, плохо видящего, сбил автомобиль. Но жива память об этом человеке у тех, кого волнует правдивое прошлое нашей родины.
Анатолий Прищепов, научный сотрудник НАН Беларуси.
Вступительное слово
 Заголовок этой книги не может не вызвать очевидного изумления у читателей. И действительно, государство белорусское, а название имеет литовское. Тем более, что в исторической науке закрепилось утверждение, что Великое княжество Литовское (ВКЛ) было литовской державой в современном значении этого слова, что его образование началось с завоевания литовским князем Миндовгом в середине 13 столетия ряда белорусских земель, и в первую очередь так называемой Черной Руси с городами Навогрудком, Волковыском, Слонимом, Городней и прочими [1] . Казалось бы, что такое редкое в науке единодушие основывается на бесспорных исторических сведениях. Но еще в свое время было сказано, что «в достоверных источниках не дошло до нас никаких сведений о завоевании Литвой этой территории» [2]. С того времени прошло более 100 лет, но впоследствии не появилось ни одного источника, который бы подтверждал литовское завоевание какой-нибудь белорусской земли [3].
Заголовок этой книги не может не вызвать очевидного изумления у читателей. И действительно, государство белорусское, а название имеет литовское. Тем более, что в исторической науке закрепилось утверждение, что Великое княжество Литовское (ВКЛ) было литовской державой в современном значении этого слова, что его образование началось с завоевания литовским князем Миндовгом в середине 13 столетия ряда белорусских земель, и в первую очередь так называемой Черной Руси с городами Навогрудком, Волковыском, Слонимом, Городней и прочими [1] . Казалось бы, что такое редкое в науке единодушие основывается на бесспорных исторических сведениях. Но еще в свое время было сказано, что «в достоверных источниках не дошло до нас никаких сведений о завоевании Литвой этой территории» [2]. С того времени прошло более 100 лет, но впоследствии не появилось ни одного источника, который бы подтверждал литовское завоевание какой-нибудь белорусской земли [3].
Даже В.Пашуто в своей работе об утверждении Литовского государства, где можно было бы искать детального рассмотрения этого исторического факта, говорит о нем как бы мимоходом «В Черной Руси, которой Миндовг завладел в 40-х годах 13 века, княжил его сын Войшалк» [4]. И все ж… этот исследователь, книга которого способствовала еще большему укреплению в нашей историографии утверждения о литовском завоевании Белорусии, вероятно, не был убежден в правильности этого и других своих тезисов, связанных с образованием и дальнейшей историей ВКЛ, поскольку счет необходимым заявить: «Дальнейшие успехи нашей науки, может быть, приведут к пересмотру приведенных здесь аргументов и выводов. Чем раньше это случится, тем лучше» [5]. Да, пересмотр необходим. Современная историческая наука не может мириться с бездоказательными утверждениями, рассказ об образовании ВКЛ и его дальнейшей истории должен быть приведен в соответствие с историческими сведениями.
Николай Ермолович.
Древняя Литва — историческая область Беларуси
Вопрос о местонахождении летописной Литвы — один из важнейших в нашем исследовании. И правда, где была та земля, имя которой потом дало название одному из крупнейших государств в Европе? Эта проблема требует детального рассмотрения, поскольку с ее описания и начинается описание истории создания ВКЛ.
В разные исторические периоды под Литвой понимали не одну и ту же территорию, не один и тот же народ. Еще в конце 19 века А.Кочубинский критиковал тех ученых, которые «современное этнографическое положение Литвы выводили из положения доисторического, во времени не изменного» [76]. Жаль, эта верная мысль осталась в науке без внимания, и в дальнейших исследованиях и учебниках по истории Древняя Литва отождествляется с иной исторической областью — Аукштайтией, которая занимала восточную часть современной Литвы [77].
Одной из причин отождествления летописной Литвы и Аукштайтии является то, что последняя в древних летописях не упоминается. Поэтому и был сделан вывод, что она выступает здесь под названием Литвы [78]. Это стало общепринятым, что и сдерживало дальнейшее выяснение вопроса, где была летописная Литва 11-13 вв. Исследователи, вместо того, чтобы внимательно прочитать и проанализировать указанные места летописей и дать ответ на этот вопрос, бездоказательно повторяли: Литва — это Аукштайтия. Однако Литва 11- 13 вв. — это не Аукштайтия, и находилась она не там, где ее располагают исследователи.
Ответ на вопрос, где была летописная Литва, дают, главным образом, некоторые записи наших летописцев. Сообщения эти, как увидим, подтверждаются топонимикой и другими материалами.
Ипатьевские летописи под 1159 г. сообщают о том, что минский князь Володар Глебович «ходяше под Литвою в лесех» [79], а под 1162 г., что он же выступил на своего противника «с Литьвою» [80]. Отсюда видно, что Литва находилась по соседству с Минским княжеством. К тем же выводам, основываясь на тех же летописных сведениях, пришел и А. Насонов [81].
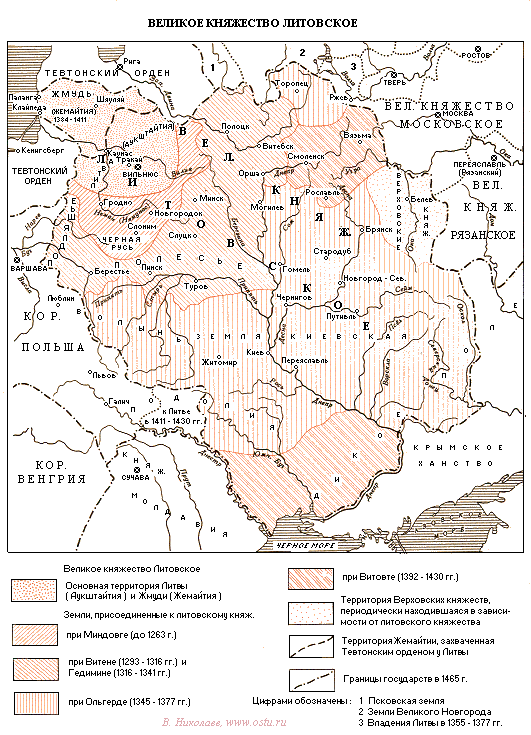
Территорию, которая находилась на запад от Минска, как Литву показывает, но уже со стороны Новогородка ( и это особенно ценно), запись ипатьевских летописей под 1262 годом. Сообщается, что князь Войшалк «учини собе манастырь на реце на Немне, межи Литвою и Новым-городком» [82]. Как известно, Войшалк основал монастырь при впадении реки Валовки в Неман, там, где сейчас находится д. Лавришево [83] (на северо-востоке от Новогрудка). Таким образом, согласно с летописью, на северо-востоке от Лавришева, за Неманом, в направлении Минска находится Литва, что целиком соответствует летописным сведениям 1159 и 1162 годов. Если бы под Литвой здесь подразумевалась Аукштайтия, то летописец не сказал бы, что основанный Войшалком монастырь был между Литвой и Новогородком, ибо Аукштайтия находилась от Новогородка не на северо-восточном, а на северо-западном направлении.
Летописная Литва была не только на правом, но и на левом берегу Немана. В 1190 году князь Рюрик Ростиславович решил помочь своим родственникам – пинским князьям в борьбе с Литвой и собрался в поход на нее, но не смог дойти туда, так как потеплело, и снег растаял, а в этом болотистом краю только и можно было воевать в сильные холода [84]. Из этого можно сделать вывод, что Литва была недалеко от Пинской земли, за ее болотами. Об этом также свидетельствуют Ипатьевские летописи под 1246 г. В них сообщается про литву, которая совершила набег на Пересопницу (на Волыни), и возвращалась через пинскую землю обратно, где и была разбита галицко-волынскими князьями [85]. В следующем году «литва» напала на Мельницу и Лековню (также на Волыни) и опять возвращалась через Пинскую землю, где так же была разбита [86]. В 1262 году отряды «литвы», посланные Миндовгом на волынские города, отступали: первый – в направлении Ясельды [87], а второй – к Неблю [88], что означает в сторону Пинской земли, как и в предыдущих случаях. Поскольку каждый раз обратный путь «литвы» проходил через Пинскую землю, то можно сделать вывод, что Литва находилась где-то по соседству с ней. Так оно и было, о чем непосредственно и подтвердили Ипатьевские летописи. Под 1253 годом в них рассказывается, как галицко-волынские князья, идя через Пинск на Новогородок, встретили на своем пути литву: «И послаша сторожу литва на озеро Зьяте (в середине Х VI ст. при переписи пинских пущ оно уже называлось болотом [89] и гнаше через болото до реки Щарье» [90]. «Сторожа» обычно высылалась для охраны границ государства. Из этого следует, что Литва находилась где-то в верховье левого притока Немана – Щары. Кстати, название это балтского происхождения, означает «узкая» [91].
Эта Литва прикрывала собой Новогородскую землю с юго-востока, ибо галицко-волынские войска, победив ее, «наутрея же плениша всю землю Новогородьскую» [92]. О том же местонахождении Литвы говорит и запись Ипатьевских летописей под 1255 годом: «Данилови же (Данила Галицкий) пошедшу на войну на Литву, на Новогородок» [93]. Это означает, что галицкие войска шли на Новогородок той же дорогой, что и в 1253 году, а именно через Литву. Эти факты, видимо, и имела в виду Ф. Гуревич, означая, что в летописных сведениях про Новогрудок в 50-70 годах XIII ст. «рассказывается о проникновении галицко-волынских князей из Литвы в этот город» [94]. У Н. Нарбута мы читаем о том, что в 1405 году туровский бискуп Антоний с согласия Витовта крестил в Литве народ в православную веру [95]. Было непонятно, почему именно туровский бискуп крестил Литву, которая, если ее отождествлять с Аукштайтией, находится далеко от Турова. Но в свете вышесказанного все становится ясным. Литва была по соседству с Турово — Пинской землей, и поэтому совсем естественно, что ее крестил туровский бискуп.

В свое время А. Кочубинский предполагал, что название «Литва», связывая с корнем «ли» в нашем «лить», в литовском «лиетус» (дождь), означает жителей влажной местности. Он утверждал также, что название «дреговичи» также литовского происхождения («дрегнос» на литовском «влажный») [96]. То, что летописная Литва в древности находилась по соседству с болотистой Турово — Пинской землей, населенной дреговичами, подтверждает эти суждения исследователя. Про такое соседство свидетельствуют и археологические исследования. В. Седов на их основании считает, что дреговичи далее на север от Выгоновского болота не жили даже в относительно позднее время [97]. Именно Выгоновское болото было природной границей между Пинской землей и летописной Литвой. Оно же было причиной и того, что дреговичская колонизация летописной Литвы значительно замедлилась, поэтому последняя могла так долго просуществовать. В согласии с приведенными фактами находится и сообщение М. Стрыйковского про Литву над Неманом, «которая жила в пущах и издавна прислуживала Новогрудскому княжеству» [98].
Характерно, что на территории, которая в летописи выступает под названием Литвы, до сегодняшних дней сохранился топоним «Литва». Населенные пункты с таким названием мы встречаем в Слонимском (Гродненская обл.), Ляховичском (Брестская обл.), Узденском, Столбцовском, Молодеченском (Минская обл.) районах. Это коренные названия, которые совпадают с летописным названием «Литва» и которые имеются только в указанном регионе. Их нужно отличать от топонимов типа « Литвиново», «Литвиновичи», «Литвяки» и им подобных, которые имеются в других местностях Белоруссии, России, Украины. Появление их там связано с переселенцами из Литвы в те местности. Один из таких топонимов – «Литвилишки» выявлены нами на территории Аукштайтии (бывшая Муксниковская волость Виленского повета). И рядом с ним – топоним «Минчуки» [99]. Понятно, что они было основаны выходцами из летописной Литвы и соседней с ней Минщины.
Летописные данные и топонимика дают возможность ориентировочно определить территорию Древней Литвы. На севере она граничила с Полоцким княжеством по неманской Березине. Позже она была перепутана с днепровской Березиной, которую и считали границей Литвы и Руси. Так, московские послы, предъявляя претензию на белорусские города, говорили послам Великого Княжества Литовского: «… а рубеже был тем городом с Литовской землею по Березыню» [100]. Про литовско-полоцкое пограничье тут свидетельствуют и расположенные рядом топонимы «Литва» и «Полочаны» (Молодеченский район).  По этой же р. Березине шла северо-западная граница Литвы с Нальщанами. На востоке Литва граничила с Минским княжеством, западная граница которого не шла дальше реки Усы (приток Немана) [101]. На восточном левобережье верхнего Немана Литва в глубокой древности соседствовала с другим балтским племенем – лотвой, о чем свидетельствует одноименный гидроним (Копыльский р-н) и топонимы «Большая Лотва» и «Малая Лотва» (Ляховичский р-н) [102]. Не исключено, что именно отсюда и началось расселение литвы и лотвы: первой на северо-запад, второй – на север и северо-восток [103]. Дальше граница Литвы переходила на р. Щару, большой южный изгиб которой и являлся природной границей Литвы на юго-востоке, юге и юго-западе. Примерно по верховью реки Мышанки и по нижнему течению реки Валовки шла западная граница Литвы, которая в более древние времена отделяла ее от ятвягов.
По этой же р. Березине шла северо-западная граница Литвы с Нальщанами. На востоке Литва граничила с Минским княжеством, западная граница которого не шла дальше реки Усы (приток Немана) [101]. На восточном левобережье верхнего Немана Литва в глубокой древности соседствовала с другим балтским племенем – лотвой, о чем свидетельствует одноименный гидроним (Копыльский р-н) и топонимы «Большая Лотва» и «Малая Лотва» (Ляховичский р-н) [102]. Не исключено, что именно отсюда и началось расселение литвы и лотвы: первой на северо-запад, второй – на север и северо-восток [103]. Дальше граница Литвы переходила на р. Щару, большой южный изгиб которой и являлся природной границей Литвы на юго-востоке, юге и юго-западе. Примерно по верховью реки Мышанки и по нижнему течению реки Валовки шла западная граница Литвы, которая в более древние времена отделяла ее от ятвягов.
Для науки имеет принципиальное значение выяснение вопроса, где была «Литва Миндовга», ибо именно с нее начался процесс объединения балтско — литовских племен. В. Пашута показывал ее в Аукштайтии, на территории, которая включала города Вильно, Троки, Кернав, Делтуву, Укмерге [104]. Но на этой же карте он поместил (правда, с вопросом) г. Воруту, где, как отмечено в летописи под 1252 годом, оборонялся Миндовг от своих противников [105], не месте современного поселка Городище (Барановичский р-н), что очень далеко от Аукштайтии. В связи с этим возникает вопрос, почему Миндовг защищался от врагов не в «Литве Миндовга», а в Новогородской земле, почему он бросил «свою» Литву и пришел искать защиту в чужой земле. В. Пашута не ставил этих вопросов, и, естественно, не дал на них ответа, как и не разъяснил, почему он предполагал, что Ворута находилась на месте современного Городища.
Но все дело в том, что «Литва Миндовга», как и вся Литва, находилась не в Аукштайтии, а в Верхнем Понемонье, где и Ворута. Уже летописное сообщение, что «Даниил возведе на Кондрата Литву Миндовга Изяслава Новогородского» [106], дает понять, что «Литва Миндовга» и Новогородок находились недалеко одна от второго. Видимо, это последнее было причиной того, что Э. Гудавичус, который посвятил «Литве Миндовга» специальное расследование и который считает, что она находилась на юге современной Литвы, даже не указал, в каком контексте она упоминается [107]. Близость «Литвы Миндовга» от Новогородка дает возможность определить (хотя бы приблизительно) местонахождение Воруты. Хотя ее отождествление с современным Городищем не может быть бесспорным, однако оно может быть близким к истине. Мы со своей стороны о местонахождении и названии Воруты высказываем такое предположение. Между реками Сервечью и Валовкой есть небольшая речка Рута и несколько населенных пунктов с таким названием. Может быть, на месте одного из них и находилась Ворута. В первоначальной редакции летописи, созданной, как предполагал В.Пашута [108], в Новогородке, могло быть написано, что Миндовг «вниде во град во Руту». Повторение предлогов характерно для Новогородской летописи: «на реце на Немне», «за Домонтом за Нальщанским», «на Романа на Брянского» [109]. Позже редактор, вставляя Новогородскую летопись в Галицко-Волынскую, мог, не разобравшись, «во Руту» принять за одно слово и, сделав другие редакционные изменения, написать «вниде во град именем Ворута». Возможно, что Ворута находилась на месте современных Кареличей, которые размещены на р. Рута и где есть городище.
Именно «Литву Миндовга» вместе с правобережной Литвой и Нальщанами завоевывал в 1258 г. татарский воевода Бурундай [110]. Но Р. Батура полагает, что под «землей Литовской» в летописи нужно понимать Новогородское княжество, которое якобы уже принадлежало Литве (112). Однако он упустил из вида, что в это время Новогородок не отождествлялся с Литвой, о чем свидетельствует приведенное выше летописное сообщение о основании Войшалком монастыря между Литвой и Новогородком. В 1262 году Миндовг мстил волынскому князю Васильку за его участие в походе Бурундая нападением на волынские города. Показательно, что отряды «литвы» и в этот раз отступали через Пинскую землю(113), что еще раз свидетельствует о нахождении «Литвы Миндовга» между Пинской и Новогородской землями. Из этого следует, что Бурундай мог завоевывать единственную в то время Литву, которая находилась в Верхнем Понемонье и с которой он перешел на Нальщанскую землю. Хотя последняя пока что исследователями не локализована, однако бесспорно, что она, гранича с Литвой, находилась на северо-западе современной Белоруссии. И когда Бурундай, двигаясь с юго-востока, прошел через Литву в Нальщаны, то ливонцы и рижане, которые двигались с северо-запада, через Нальщаны ( durch Nalsen )(114) проникли в Литву. Это яркое совпадение в показаниях Ипатьевских летописей и Ливонской рифмованной хроники — еще одно очевидное свидетельство, где была древняя Литва. Соседством Новогородка и «Литвы Миндовга» разъясняется факт появления последнего в этом городе, о чем пойдет разговор ниже.
Было сделано возражение, что территорию, показанную нами как Литву, c IX в. занимали славяне, и что здесь с Х столетия существовал древнерусский город Изяславль(115). Однако славяне на этом месте, как и на всей территории Белоруссии, не были автохтонами, ибо еще до них, как означает Ф. Гуревич, «здесь жили балтские племена культуры штрихованной керамики» (116). На это указывают и археологические памятники, например: Городище (Барановичский р-н); Кореличский тракт, Черешля (Новогрудский р-н); Бездонное, Кабаки, Низ (Слонимский р-н); Воложин (Воложинский р-н), Держинск, Новосады, Старая Рудица (Держинский р-н), Городилово, Городок (Молодеченский р-н) и др.(117).

Жемайтия и другие регионы на Carta Marina, 1539 год
Нужно отметить, что первоначально в конце Х ст. подпадало христианизации только славянское население, а иноплеменные оставались в язычничестве(118). Вот почему острова балтского населения еще долгое время существовали на территории Белоруссии, как, например, в районе Обольцев (Толочинский р-н), Гайны (Логойский р-н), и др. (119). Население их было крещено в католическую веру на условиях Кревской унии 1385 г. Между прочим, этим и объясняется, почему в Обольцах и Гайне были построены первые костелы на территории Белоруссии. Не исключено, что население это, в том числе и древней Литвы, окруженное славянами, в значительной степени ассимилировалось и было не столько балтским, сколько языческим. Как увидим дальше, Миндовг и Войшалк сначала были язычниками. Не зря же позднейшие Хлебниковские летописи в отличие от «Повести минувших лет»(120) Литву поместили среди славянских племен.
В свете приведенных нами фактов тяжело согласиться с мыслью, что наиболее ранние упоминания Литвы относятся к восточной, центральной и занеманской частей современной Литвы.(122). Это опровергается первым же упоминанием Литвы под 1009 г. в Кведлинбургских анналах. Уже только то, что в этом латиноязычном источнике название «Литва» выступает в славянской форме и что здесь говорится о ее границах с Русью ( in confinio Rusciae et Lituae )(123), свидетельствует о том, что разговор может идти о Литве в Верхнем Понемонье. Только в таком случае она могла граничить с Русью, от которой территория современной Литвы была ограждена ятвягами.
Это же подтверждают и другие сообщения о Литве, связанные с упомянутыми выше походами на Ярослава Мудрого в 1040 и 1044 годах. В исследованиях Е. Длугоша находим дополнительные сведения об этом, а именно, что киевский князь «разбил Литву на полях Слонимских (припоминаем, что здесь есть топоним «Литва») и овладел ею до Немана.»(125), т.е. захватил ее левобережную часть. Приведенные факты опровергают и предположения, что топонимы «Литва» в указанном нами регионе появились в итоге продвижения сюда позднее (когда именно, не указывается) литовских поселений (128). Однако события 1009, 1040 и 1044 лет показывают, что уже в XI ст. эта местность называлась Литвой.
Продожение следует…